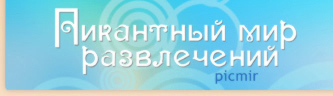ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ
Новые комментарии
ТОП - публикаций
Посмотреть все
Любительское видео
Любительское фото
Остальное Видео
Остальное Фото
Разное
Сайт
Медкомиссия для работы в сфере образования. Психиатр.
![]()
Разное » Порно истории
| Дата добавления | 2025-11-13 |
| Автор | Berlusc0ni |
| Комментариев | 7 |
| Просмотров | 1194 |
| Голосов | 47 |
| Рейтинг | 9.6 |
Кабинет пах стерильностью и зеленым яблоком. Резкий, химический запах антисептика сочетался со сладковатым, нарочито-бытовым ароматом, исходящим от самого психиатра. Он сидел напротив, щуплый, почти мальчишеский, в белом халате, который висел на нем, как на вешалке. Его глаза, не по-юношески старые и пронзительные, просвечивали меня насквозь.
«Вы позволили себе утонуть в грязи, Людмила Сергеевна, — сказал он, и его голос был тихим, но безжалостным, как скальпель. — Потому что боитесь, что под ней ничего нет. Сейчас мы это проверим.»
Он встал, мягко щелкнул замком на двери и повернулся ко мне. В его движениях не было ни страсти, ни желания. Только метод. Холодная, отлаженная техника.
Его пальцы вцепились в волосы на моем затылке — не грубо, а с неумолимой, хирургической точностью, заставляя меня встать и податься вперед. Другой рукой он расстегнул ширинку. И я увидела его. Он был большим, неестественно большим для его хрупкого телосложения, и налитым кровью. И от него, от этой плоти, так контрастирующей с медицинской обстановкой, пахло тем самым гелем для душа с зеленым яблоком. Этот дурацкий, бытовой запах на фоне происходящего был оскорбительнее любой грубости.
«Шесть лет назад, — его голос прозвучал у меня над ухом, пока он направлял себя к моим губам, — я пришел к вам на занятие по подготовке к ЕГЭ. Вы были богиней. Неприкосновенной. А на стене в вашем кабинете висело то самое фото. Черно-белое. Вы, на стуле, с полуулыбкой. Я тогда пообещал себе, что однажды выебу вас в рот. Чтобы посмотреть, что останется от богини.»
Он вошел в мое горло резко и глубоко, не оставляя выбора. Я захлебнулась, слезы выступили на глазах. Но его рука в моих волосах держала меня с такой силой, что любое движение причиняло боль. Я была зажата между его бедрами и креслом, лишенная возможности отстраниться.
И странное дело — его слова, этот шокирующий, исповедальный монолог, не вызвали у меня гнева. Они подстегнули меня. Возбудили так, как не возбуждал ни Сашка, ни рыжики. Потому что это была правда. Голая, уродливая, но правда. Он видел ту самую Людку с фотографий и хотел именно ее. Не училку. Не мать. А ту, развратную, жаждущую власти девочку.
Он использовал меня не как женщину, а как инструмент для своего триумфа. Его движения были ритмичными, методичными, лишенными страсти. Он смотрел на меня сверху вниз, и в его взгляде была не похотливость, а научный интерес. Он фиксировал каждую мою слезу, каждый спазм гортани, каждый подавленный рвотный позыв.
«Вас насилуют подростки, вы подглядываете за дочерью, а теперь вот... здесь, — он говорил ровно, лишь легкая одышка выдавала физическое усилие. — Вы не жертва, Людмила Сергеевна. Вы — оправдание. Оправдание для всего самого грязного, что есть в других. Вы — живое разрешение на падение.»
От этих слов во мне что-то оборвалось. Я перестала бороться. Я расслабила горло и приняла его. Вся, до конца. И в этой абсолютной, добровольной капитуляции я почувствовала прилив такой темной, всепоглощающей силы, что мне показалось, это я использую его, а не он меня.
Мое тело отозвалось на это унижение диким, черным оргазмом, который выжег из меня все — и стыд, и страх, и остатки той розовой сопливой иллюзии, что под названием «Людмила Сергеевна» вообще что-то значило.
Он кончил, глубоко в мое горло, и его пальцы на мгновение разжались. Я отпрянула, кашляя, слюна и сперма стекали по моему подбородку.
Он отошел к раковине, спокойно, как после завершения эксперимента. Поправил халат.
«На сегодня сеанс окончен, — сказал он, поворачиваясь ко мне. Его лицо снова было лицом врача. — Вы не больны. Вы — свободны. Просто ваша свобода пахнет спермой и зеленым яблоком. Привыкайте.»
Я стояла, опершись о кресло, и смотрела на свое отражение в темном экране монитора. Перемазанная, заплаканная, с растрепанными волосами. И впервые за долгие годы мне не было стыдно. Потому что он был прав. Он не насиловал меня. Он... вскрыл. И показал мне мое истинное содержимое. И оно, это содержимое, на удивление, было полно жизни. Грязной, постыдной, яростной — но жизни. И теперь, когда все маски были сожжены дотла, оставалось только одно — научиться в этом жить.
Он подошел к столу, взял планшет, скользнул по экрану пальцем. Движения были выверенными, бытовыми. Совершенно нормальными. Это было самым жутким.
«Так, — произнес он, не глядя на меня. — Свобода требует расписания. Записал вас на среду. На шестнадцать ноль-ноль. Не опаздывайте.»
Он посмотрел на меня поверх планшета. Его взгляд был чистым, профессиональным, лишенным того демонического огня, что был минуту назад. В нем не было ни стыда, ни смущения. Только констатация факта.
«На следующем сеансе, — продолжил он, и его голос снова обрел металлический оттенок методиста, — будем прорабатывать ваши триггеры. Те, что заставляют вас искать саморазрушение в актах унижения. Думаю, мы сделали хороший задел для дальнейшей работы.»
Молчание повисло в воздухе. Я не спросила, во сколько сеанс. Не спросила, что будет в среду. Любой вопрос с моей стороны был бы признанием, что я принимаю эти новые правила. Что я соглашаюсь быть не пациенткой, а участницей его извращенного эксперимента.
Я медленно выпрямилась, провела рукой по волосам, пытаясь хоть как-то придать себе форму. Плевать, что я думала. Плевать, что я чувствовала. Тело уже все решило за меня. Оно отозвалось на его вызов. Оно уже сказало «да».
Я молча кивнула, развернулась и потянулась к ручке двери. Мое отражение в блестящей табличке с его именем и степенью было размытым и уродливым.
«До среды, Людмила Сергеевна», — раздался его голос позади меня.
Я вышла, не оборачиваясь. Дверь закрылась с тихим щелчком. А у меня в голове, поверх гула от пережитого, четко и ясно стучало лишь одно: «Среда. 16:00. Не опаздывать». Это был не вопрос. Это был приговор. И новый, единственно возможный теперь, смысл.
«Вы позволили себе утонуть в грязи, Людмила Сергеевна, — сказал он, и его голос был тихим, но безжалостным, как скальпель. — Потому что боитесь, что под ней ничего нет. Сейчас мы это проверим.»
Он встал, мягко щелкнул замком на двери и повернулся ко мне. В его движениях не было ни страсти, ни желания. Только метод. Холодная, отлаженная техника.
Его пальцы вцепились в волосы на моем затылке — не грубо, а с неумолимой, хирургической точностью, заставляя меня встать и податься вперед. Другой рукой он расстегнул ширинку. И я увидела его. Он был большим, неестественно большим для его хрупкого телосложения, и налитым кровью. И от него, от этой плоти, так контрастирующей с медицинской обстановкой, пахло тем самым гелем для душа с зеленым яблоком. Этот дурацкий, бытовой запах на фоне происходящего был оскорбительнее любой грубости.
«Шесть лет назад, — его голос прозвучал у меня над ухом, пока он направлял себя к моим губам, — я пришел к вам на занятие по подготовке к ЕГЭ. Вы были богиней. Неприкосновенной. А на стене в вашем кабинете висело то самое фото. Черно-белое. Вы, на стуле, с полуулыбкой. Я тогда пообещал себе, что однажды выебу вас в рот. Чтобы посмотреть, что останется от богини.»
Он вошел в мое горло резко и глубоко, не оставляя выбора. Я захлебнулась, слезы выступили на глазах. Но его рука в моих волосах держала меня с такой силой, что любое движение причиняло боль. Я была зажата между его бедрами и креслом, лишенная возможности отстраниться.
И странное дело — его слова, этот шокирующий, исповедальный монолог, не вызвали у меня гнева. Они подстегнули меня. Возбудили так, как не возбуждал ни Сашка, ни рыжики. Потому что это была правда. Голая, уродливая, но правда. Он видел ту самую Людку с фотографий и хотел именно ее. Не училку. Не мать. А ту, развратную, жаждущую власти девочку.
Он использовал меня не как женщину, а как инструмент для своего триумфа. Его движения были ритмичными, методичными, лишенными страсти. Он смотрел на меня сверху вниз, и в его взгляде была не похотливость, а научный интерес. Он фиксировал каждую мою слезу, каждый спазм гортани, каждый подавленный рвотный позыв.
«Вас насилуют подростки, вы подглядываете за дочерью, а теперь вот... здесь, — он говорил ровно, лишь легкая одышка выдавала физическое усилие. — Вы не жертва, Людмила Сергеевна. Вы — оправдание. Оправдание для всего самого грязного, что есть в других. Вы — живое разрешение на падение.»
От этих слов во мне что-то оборвалось. Я перестала бороться. Я расслабила горло и приняла его. Вся, до конца. И в этой абсолютной, добровольной капитуляции я почувствовала прилив такой темной, всепоглощающей силы, что мне показалось, это я использую его, а не он меня.
Мое тело отозвалось на это унижение диким, черным оргазмом, который выжег из меня все — и стыд, и страх, и остатки той розовой сопливой иллюзии, что под названием «Людмила Сергеевна» вообще что-то значило.
Он кончил, глубоко в мое горло, и его пальцы на мгновение разжались. Я отпрянула, кашляя, слюна и сперма стекали по моему подбородку.
Он отошел к раковине, спокойно, как после завершения эксперимента. Поправил халат.
«На сегодня сеанс окончен, — сказал он, поворачиваясь ко мне. Его лицо снова было лицом врача. — Вы не больны. Вы — свободны. Просто ваша свобода пахнет спермой и зеленым яблоком. Привыкайте.»
Я стояла, опершись о кресло, и смотрела на свое отражение в темном экране монитора. Перемазанная, заплаканная, с растрепанными волосами. И впервые за долгие годы мне не было стыдно. Потому что он был прав. Он не насиловал меня. Он... вскрыл. И показал мне мое истинное содержимое. И оно, это содержимое, на удивление, было полно жизни. Грязной, постыдной, яростной — но жизни. И теперь, когда все маски были сожжены дотла, оставалось только одно — научиться в этом жить.
Он подошел к столу, взял планшет, скользнул по экрану пальцем. Движения были выверенными, бытовыми. Совершенно нормальными. Это было самым жутким.
«Так, — произнес он, не глядя на меня. — Свобода требует расписания. Записал вас на среду. На шестнадцать ноль-ноль. Не опаздывайте.»
Он посмотрел на меня поверх планшета. Его взгляд был чистым, профессиональным, лишенным того демонического огня, что был минуту назад. В нем не было ни стыда, ни смущения. Только констатация факта.
«На следующем сеансе, — продолжил он, и его голос снова обрел металлический оттенок методиста, — будем прорабатывать ваши триггеры. Те, что заставляют вас искать саморазрушение в актах унижения. Думаю, мы сделали хороший задел для дальнейшей работы.»
Молчание повисло в воздухе. Я не спросила, во сколько сеанс. Не спросила, что будет в среду. Любой вопрос с моей стороны был бы признанием, что я принимаю эти новые правила. Что я соглашаюсь быть не пациенткой, а участницей его извращенного эксперимента.
Я медленно выпрямилась, провела рукой по волосам, пытаясь хоть как-то придать себе форму. Плевать, что я думала. Плевать, что я чувствовала. Тело уже все решило за меня. Оно отозвалось на его вызов. Оно уже сказало «да».
Я молча кивнула, развернулась и потянулась к ручке двери. Мое отражение в блестящей табличке с его именем и степенью было размытым и уродливым.
«До среды, Людмила Сергеевна», — раздался его голос позади меня.
Я вышла, не оборачиваясь. Дверь закрылась с тихим щелчком. А у меня в голове, поверх гула от пережитого, четко и ясно стучало лишь одно: «Среда. 16:00. Не опаздывать». Это был не вопрос. Это был приговор. И новый, единственно возможный теперь, смысл.
Из серии Дневник моей жены
Подлянка
Вы можете проголосовать за публикацию как десять пользователей по 1 (одному) баллу, что существенно понизит публикацию в общем рейтинге
Стоимость 5 пик
Вы можете проголосовать за публикацию как десять пользователей по 1 (одному) баллу, что существенно понизит публикацию в общем рейтинге
Стоимость 5 пик
Поддержка
Вы можете проголосовать за публикацию как десять пользователей по 10 (десять) баллов, что существенно повысит публикацию в общем рейтинге
Стоимость 5 пик
Вы можете проголосовать за публикацию как десять пользователей по 10 (десять) баллов, что существенно повысит публикацию в общем рейтинге
Стоимость 5 пик
Комментарии
2025-11-14 17:30:37
красиво училку поимел хоть и бывшую. многие школьники представляют как имеют училок и не только в рот